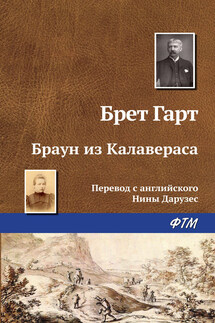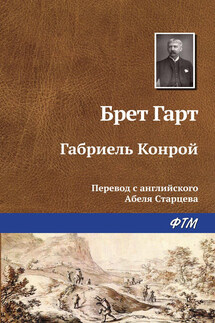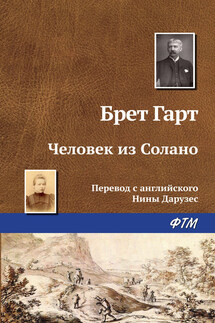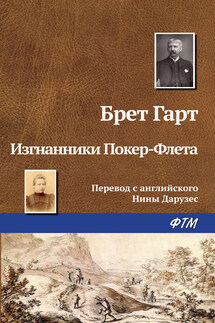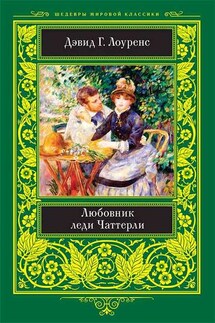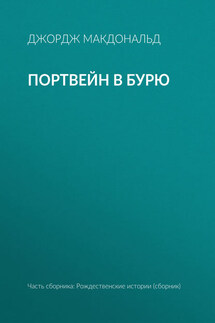Был канун Рождества в Калифорнии – время проливных дождей и первых ростков травы. По временам из-за гонимых ветром туч являлось чудо – солнце освещало понурые холмы; смерть и воскресение сливались в одно, и сквозь мучительную агонию разрушения пробивалась и тянулась вверх ликующая жизнь. Даже буря, обрывавшая сухие листья, питала нежные почки, которые рождались им на смену. Не было картин снежного безмолвия; на оживающих полях плуг фермера шел вдоль борозд, проложенных недавними дождями. Может быть, именно поэтому рождественские вечнозеленые деревья, украшавшие гостиную, выглядели чужеземцами и составляли странный контраст с розами, которые смутно виднелись в окнах, когда юго-западный ветер пригибал к стеклам их нежные головки.
– Ну, – сказал доктор, пододвигая стул к огню и окидывая мягким, но решительным взглядом полукруг белокурых головок, – прежде чем я начну свой рассказ, я хотел бы, чтобы вы твердо усвоили, что меня нельзя прерывать нелепыми вопросами. При первом же вопросе я перестану рассказывать. При втором я сочту своей обязанностью дать каждому из вас по порции касторки. Если кто из мальчиков шевельнет ногой или рукой, это будет означать, что он хочет, чтобы ее отрезали. Инструменты я захватил с собой и никогда не позволю себе ради удовольствия пренебречь своими обязанностями. Обещаете?
– Да, сэр, – одновременно отозвались шесть тоненьких голосков. За этим залпом последовало, однако, полдюжины отдельных вопросов.
– Тише! Боб, сядь как следует и перестань греметь саблей. Флора усядется рядом со мной, как барышня, и будет служить примером остальным. Фун Тан, если хочет, тоже может остаться. Теперь убавьте немного газ, так, хорошо, – в самый раз, чтобы огонь в камине казался ярче и видны были рождественские свечи. Тихо! Если кто-нибудь будет щелкать миндаль или громко сопеть над изюмом, я выгоню того из комнаты.
Наступила глубокая тишина. Боб бережно отложил саблю в сторону и задумчиво потер себе ногу. Флора, кокетливо пригладив карманы своего передничка, положила руку на плечо доктору, и тот усадил ее рядом с собой. Фун Тан, маленький слуга-язычник, которому ради торжественного случая позволили участвовать в рождественских развлечениях в гостиной, наблюдал за всеми с кроткой и в то же время философской улыбкой. Только тихое тиканье французских часов на камине, которые поддерживала смуглолицая и стройная молодая пастушка, нарушало рождественский покой комнаты – покой, в котором гармонически сочетались запахи хвои, новых игрушек, ящичков кедрового дерева, клея и лака.
– Года четыре тому назад в это время, – начал доктор, – я посещал лекции в одном большом городе. Один из профессоров, человек общительный и любезный, хотя, пожалуй, чересчур уж практичный и упрямый, пригласил меня к себе в сочельник. Я с радостью принял приглашение: мне очень хотелось повидать одного из его сыновей, двенадцатилетнего мальчика, про которого говорили, что он очень талантлив. Боюсь даже сказать вам, сколько латинских стихов этот мальчик знал наизусть и сколько английских сам сочинил. Во-первых, вы захотели бы, чтобы я их повторил; во-вторых, я не знаток поэзии – ни латинской, ни английской. Но были знатоки, которые считали их замечательными для мальчика, и все предсказывали ему блестящую будущность. Все, кроме его отца. Когда заговаривали об этом, он с сомнением покачивал головой, потому что, как я уже говорил, это был человек практичный и деловой.
Конец ознакомительного фрагмента.