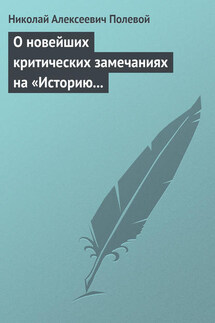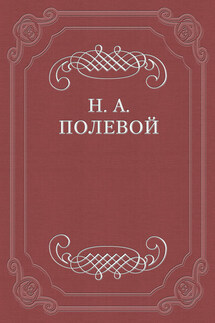Статья Л. М. Лопатина о моей книге еще не кончена; но, как ни странным это может показаться с первого взгляда, именно это обстоятельство побуждает меня поторопиться напечатанием настоящей заметки. Я в высшей степени дорожу мнением моего уважаемого друга и потому желал бы, чтобы в дальнейших его статьях оно в самом деле относилось к мыслям, мною высказанным. Поэтому я вынужден обратить его внимание на их действительный смысл.
Создатели самобытных, оригинальных учений в философии, хотя бы и весьма талантливые, вовсе не всегда обладают достаточной восприимчивостью к чужим воззрениям. Статья Л. М. Лопатина – тому поучительный пример: он, по-видимому, читал мою книгу в настроении человека, который только спорит, но не выслушивает противника. Поэтому собственно моих мыслей его возражения вовсе не коснулись: воззрении, которые приписывает мне мой критик и прототип которых он возражает, частью несхожи с моими нопремиями, частью даже прямо им противоположны.
Приведу несколько примеров:
В моей книге я говорю о моем разочаровании в церковно-политических воззрениях славянофилов, происшедшем под влиянием Соловьева уже в восьмидесятые годы (Предисловие, т. I, стр. 5); в дальнейшем я нахожу, что во второй период творчества Соловьева этот его разрыв с церковно-политическими идеями славянофилов был недостаточно полным и радикальным (I, 487–493); наконец, в моем заключении я в общем принимаю тот весьма далекий от славянофильского богословия взгляд на взаимное отношение церквей, который выразился в «Трех разговорах» Соловьева[1]; вообще же говоря, отделение от славянофильства по всей линии – одна из наиболее характерных особенностей моей книги.
Для Л. М. Лопатина все эти факты вовсе не существуют: он все еще полон воспоминаниями о том прошлом восьмидесятых годов, когда я в устных спорах страстно защищал против Соловьева старое славянофильство: поэтому, вместо того чтобы вчитаться в современные мои мысли, он строит о них следующую догадку:
«Мне представляется, что главный источник разногласий князя Е. Н. Трубецкого с Соловьевым заключается в том, что князь Трубецкой, по своему умственному настроению, значительно ближе к старым славянофилам, чем к нему. Он гораздо менее полагается на умозрение и меньшего ждет от него» (418).
Последняя фраза также выражает собою одну из самых непонятных мне гипотез Л. М. Лопатина о моей книге. Если бы, вместо того чтобы строить о ней догадки, он обратился к действительному ее содержанию, он бы, разумеется, заметил, что я целиком признаю соловьевский идеал цельного знания, которое уже в этой, земной жизни возможно «в смысле предварительного объединения или синтеза мистического, рационального и эмпирического элемента» (т. И, 292–293). От его внимания не ускользнуло бы и то, что именно с точки зрения этого идеала я оцениваю все метафизическое учение Соловьева, пытаюсь умозрительным путем отделить существенное от несущественною и ею мыслях о Боге, о Богочеловечестве, о Софии, о мировой душе и о генезисе мира. Наконец, он увидел бы и то, что я приветствую возвращение Соловьева к философии и последний период его творчества и считаю временное охлаждение к ней и средний период философа заблуждением. Об этом Л. М. мог бы узнать еще подробнее из моей статьи, помещенной в посвященном ему юбилейном сборнике. При еще большем внимании он, быть может, заметил бы еще, что одно из существенных моих отличий от Соловьева заключается в признании большей, по сравнению с допускаемой им, самостоятельности чисто рационального начала в области естественного познания (т. I, стр. 259–260).
Но вместо того, чтобы оказать внимание моим произведениям, Л. М. Лопатин верит на слово. Л. Радлову, что я держусь точки прения credo quia absurdum Тертуллиана (стр. 425), т. с. отрицаю πρηιω разума и питаю «глубокое отвращение к проникновению в тайны Божественной жизни» (стр. 423). Недоразумение тем более досадное, что, как было показано в другом месте[2], единственным основанием для приведенною мнения Э. Л. Радлова послужило смешение между началом credo quia absurdum, которое в корне противоречит моим воззрениям, и принципом credo ut intelligam, которого я держусь в действительности. Всего удивительнее, что, сопоставляя мое мнимое отрицание умозрения с умозрительными построениями, которые он действительно у меня находит, Л. М. Лопатин думает изобличить меня в противоречии (стр. 425). На самом деле тут есть кричащее противоречие, но не в моих мыслях, а между высказанным мною и приписанным мне Э. Л. Радловым!
Впрочем, к ошибкам Э. Л. Радлова присоединяются здесь ошибки внимания самого Л. М. Лопатина. Я утверждаю, что бытие Божие недоказуемо; не расслышав меня, мой критик приписывает мне утверждение, которого я никогда не высказывал, – будто оно непознаваемо. Между тем это вовсе не одно и то же: во-первых, как это прекрасно знает и Л. М. Лопатин, – кроме знания доказанного, дискурсивного, есть еще и знание интуитивное, которое не доказуется, а дается непосредственному усмотрению; во-вторых, для того, кто стоит на религиозной точке зрения, есть еще и знание, основанное на откровении: если бы мы не верили, что мы что-нибудь