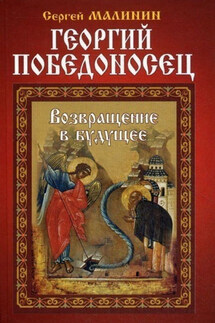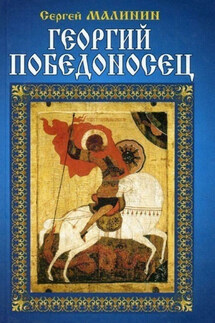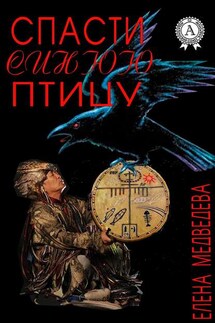Взмахнув широкими крыльями, старый ворон поднялся в ясное утреннее небо, в несколько мощных взмахов набрал высоту и стал медленно описывать круги в наливающемся дневной синевой поднебесье, озирая свои охотничьи угодья в поисках добычи. Мелкие лесные пичуги, что уже начали пробовать голоса, славя приход дневного светила, испуганно умолкали, заметив беззвучно скользящий в высоте смертоносный чёрный крест. Ворон парил в вышине, ловя распахнутыми крыльями восходящие воздушные потоки, и почти не обращал внимания на испуганную птичью суету внизу: он искал иную, куда более богатую и лакомую добычу, которую ему частенько оставляли на обочинах дорог, в полях и на опушке леса странные и нелепые бескрылые существа, именующие себя людьми.
Вскоре такая добыча обнаружилась. Углядев с высоты крохотную прогалину в густом сосновом бору, ворон снизился, описывая сужающиеся круги. Его взору предстала знакомая картина: круг седой золы посреди прогалины, в центре которого чернели остывшие головешки, мирно щиплющая траву лошадь и распростёртое на траве поодаль от кострища недвижимое тело. Ворон каркнул, на свой манер славя Бога, который в последнее время был к нему щедр, и спикировал на прогалину.
Разбуженный его скрипучим криком человек шевельнулся, откинул попону, которой укрывался от ночного холода и утренней росы, и сел, широко зевая и протирая кулаком заспанные глаза. Ворон снова каркнул, на сей раз с явным разочарованием, и забил крыльями, набирая потерянную высоту.
– Пся крэв, – проворчал человек, отлично понявший, чего хотел от него старый падальщик, и, в последний раз длинно зевнув, поднялся на ноги.
Солнце ещё не показалось над макушками деревьев, и трава на поляне была седой от мелких капелек росы. Запахнув потёртый, видавший виды кунтуш и зябко ёжась от утреннего холодка, человек присел на корточки у кострища и принялся раздувать угли. Невесомый пепел взлетел белёсым облачком, среди золы и чёрных головешек зарделся не до конца погасший жар. Положив на тлеющие угли кусочек бересты и несколько заранее припасенных хворостинок, человек подул сильнее. Над кострищем тонкой струйкой поднялся белый дым, и вскоре на поляне, распространяя вокруг живительное тепло, уже горел небольшой костерок.
Согрев озябшие ладони, человек подержал над огнём оставшийся от вчерашнего ужина кусок зайчатины и торопливо перекусил, заедая мясо чёрствым хлебом и запивая плескавшейся в плоской кожаной фляге водой. Трапеза получилась скудная, прямо-таки монашеская, но человека это не опечалило: цель путешествия была близка, и он знал, что ещё до наступления вечера поест вдоволь и выпьет столько вина, сколько сумеет в себя влить.
Кое-как утолив голод, он затоптал костёр, подпоясался широким кушаком, перекинул через плечо перевязь сабли и, бормоча ласковые слова, водрузил на спину гнедой лошади седло, которое уже много ночей подряд служило ему изголовьем. Затянув подпругу, путник перекинул через лошадиную холку тощую перемётную суму, из которой с обеих сторон красноречиво торчали рукоятки дорогих фряжских пистолей, и одним ловким, непринуждённым движением бывалого наездника взлетел в седло. Сабля в потёртых ножнах негромко лязгнула о стремя; всадник оправил перевязь, двумя привычными плавными движениями разгладил пышные, свисавшие подковой усы, с неудовольствием потёр заросший многодневной рыжеватой щетиной подбородок и толкнул коленями лошадиные бока.
Отдохнувшая лошадь бежала резво, будто, как и седок, торопилась поскорее закончить долгое путешествие и очутиться в родной конюшне, перед кормушкой, полной отборного овса. Над верхушками деревьев показался краешек солнца, и лежавшая на траве и листьях роса засверкала, словно кто-то рассыпал по лесу неисчислимое множество бриллиантов. Одинокого всадника все эти красоты оставили равнодушным, ибо он был сыт ими по горло и хотел лишь поскорее сменить синий купол небес над головой на прочную тёсовую крышу, а пропахшую конским потом попону и жёсткое седло под головой – на мягкую постель. Общество верного скакуна, сколь бы приятным оно ни было для старого рубаки, после продолжительной поездки стало сильно уступать в его глазах обществу экономки – пусть уже немолодой и весьма ворчливой, но всё-таки женщины, а не бессловесной скотины, которая только и умеет, что фыркать, ржать да хрустеть овсом.
Долгое путешествие осталось позади, и это радовало всадника, хотя поездка, увы, получилась напрасной, не принеся желанного результата. Вместо тугого кошеля, под завязку набитого золотом, всадник вёз домой лишь короткую, запечатанную восковой печатью грамоту да ещё более краткое словесное послание, в коем не содержалось ничего утешительного или хотя бы обнадёживающего. Впрочем, всё это были не его заботы; преодолев множество опасностей и преград, он выполнил порученное дело, и в том, что дело сие кончилось ничем, не было его вины. Уже одно то, что, проделав такой долгий и опасный путь, он возвращался живым и невредимым, казалось чудом и могло быть поставлено ему в заслугу. А если хорошенько подумать, приходилось признать, что, будь при нём вместо никому не нужного бумажного свитка тугой кошель, его шансы на возвращение были бы невелики – во всяком случае, намного меньше, чем теперь, когда все находившиеся при нём ценности исчислялись немолодой лошадью, парой пистолей, саблей, потёртым кунтушом да стоптанными сапогами. В порубежных землях вдоль зыбкой, всё время меняющейся границы между Речью Посполитой и владениями московского царя Фёдора Иоанновича, давно уже стало неспокойно. Тут водились хищники пострашнее ворона, который разбудил путника на рассвете, и, чтобы проехать через эти места, сохранив имущество и жизнь, требовалась не только изрядная сноровка, но и большая удача.