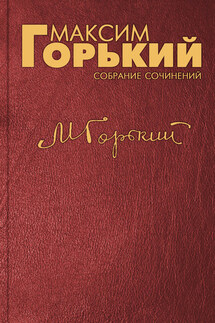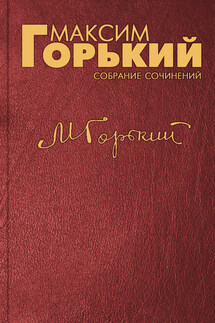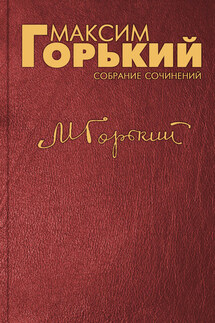И если кто теряет нить моих мыслей, так это нерадивый читатель, а вовсе не я… Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. Лучше немного безумия, чем тьма глупости.
Мишель Монтень
Что я сделал? Нельзя отрицать: родил множество новых мыслей.
В. Розанов
В последних числах декабря 1913 г. в известном литературно-артистическом кафе Бориса Пронина «Бродячая собака» студент-филолог Петербургского университета Виктор Шкловский прочел доклад «Место футуризма в истории языка».
«В час ночи, – вспоминал современник, – в самой «Собаке» только начинается филологически-лингвистическая (т. е. на самый что ни на есть скучнейший из возможных точек зрения обывателя сюжет!) лекция юного Виктора Шкловского «Воскрешение вещей»! Юный ученый-энтуазист распинается по поводу оживленного Велимиром Хлебниковым языка, преподнося в твердой скорлупе ученого орешка квинтэссенцию труднейших мыслей Александра Веселовского и Потебни, уже прорезанных радиолучом собственных его, как говорилось тогда, «инвенций», – он даром мощного своего именно воскрешенного, живого языка заставляет слушать, не шелохнувшись, многочисленную публику, наполовину состоящую чуть ли не из «фрачников» и декольтированных дам»[1].
Для публики новостью были не филологические доклады – еще живо помнились стиховедческие лекции А. Белого с графиками и цифровыми выкладками. Но у символистов была демонстративная ученость, базирующаяся на предшествующей науке и растворенная в философии.
У В. Шкловского отношение к предшественникам было другое. Другим был и тон, выработанный в общении с футуристами.
Его легко было уличить в путанице, неточностях в фактах, датах, названиях. Это делали много и охотно. В. Пяст вспоминает, как в «Бродячей собаке» после доклада Шкловского «Шилейко взял слово и, что называется отчестил, отдубасил, как палицей, молодого оратора, уличив его в полном невежестве – и футуризм с ним вкупе»[2]. Похожее впечатление произвело другое выступление Шкловского на нашумевшем диспуте в Тенигаевском училище 8 февраля 1914 г. на Б. М. Эйхенбаума – тогда еще вполне «академиста»: «Тут был и Роден, и Веселовский, и архитектор Лялевич, тут были слова и о вещах, и о костюмах, и о том, что слово умерло, что люди несчастны от того, что они ушли от искусства, и т. д. Это была речь сумасшедшего»[3].
Обстановку одного из таких диспутов выразительно нарисовал сам участник: «Аудитория решила нас бить. Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами. <…>. Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным – прошел»[4].
Эти шумные, почти скандальные диспуты создавали впечатление всеотрицающего, подобно футуризму, направления, нарождающегося спонтанно.
Но все было не так уж внезапно.
В области изобразительных искусств и музыки широкие штудии, связанные с формой, начались еще в середине XIX в. У их истоков стояли Г. Маре, К. Фидлер, А. Гильдебранд.
Г. Маре провозгласил самостоятельное изучение формы, отграниченное от религиозного, философского или вкусового рассмотрения[5]. По К. Фидлеру, художественные произведения нужно изучать как самостоятельную форму объектов. «Искусство может быть познано лишь на его собственных путях»[6]. Этим должна заниматься специальная дисциплина, с особой методологией, которая должна быть отграничена от эстетики как науки, привлекающей категории этические, религиозные, политические.
Подобные взгляды развивал и тесно связанный с ними А. Гильдебранд – в книге «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1-е изд. вышло в 1893 г., рус. пер. – 1914 г.) Искусство – это самостоятельная сфера человеческой деятельности, осуществляющая собственное построение мира. Оно «не заимствует где-либо своей поэзии», не иллюстрирует готовое. Именно поэтому А. Гильдебранд выступает противником современных ему «исторических» (по его терминологии) методов исследования искусства, при использовании которых, по его мнению, теряется масштаб для оценки искусства. В центр внимания в них ставится несущественное, тогда как «художественное существенное содержание, которое независимо от всякой смены времен следует своим внутренним законам, игнорируется»[7].
Как и Фидлер, Гильдебранд анализирует формы ви́дения. У него это вылилось в теорию различения между формой бытия и формой воздействия произведения искусства. «Одинокая башня производит впечатление стройной, но она же становится сразу приземистой, если мы сбоку приставим тонкую фабричную трубу <…>. Как форма воздействия, она приобретает акцент, который ей самостоятельно не присущ»[8].
Произведение искусства – вещь, созданная для воспринимания. Поэтому все действительно существующие формы превращаются в нем в относительные ценности. Совершенно различные формы бытия могут привести к представлению об одной и той же форме.
Эти рассуждения Гильдебранда оказались очень близкими к тем выводам, к которым вскоре пришла формальная поэтика.
Элементы произведения искусства, его составные части (фигуры, карнизы, колонны, капители, слова, фразы, «приемы») должны быть изучены лишь функционально. Мертвый каталог их не дает истинного представления о целом как специфическом образовании. Реальный документ, введенный в прозаическое произведение, выполняет в нем уже иную функцию. Одна и та же по типу конструкция может иметь совершенно различное значение в разных произведениях (как башня в примере Гильдебранда) в зависимости от сочетания с другими элементами. «Тот же самый, с формальной точки зрения, прием нередко приобретает различный художественный смысл в зависимости от своей функции, т. е. от единства всего художественного произведения, от общей направленности всех остальных приемов»