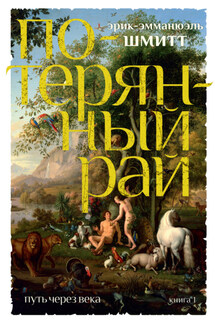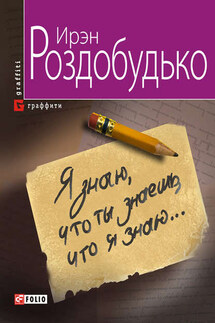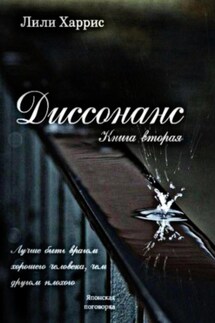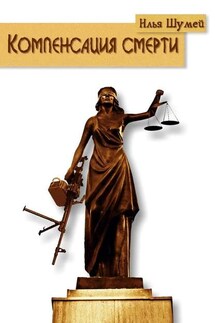– Ты не замечаешь, что твоя мать мертва?
И дядя указал на Маму, стоящую у раковины, – высокую, статную, но какую-то землисто-бледную; она только что кончила вытирать посуду, поставив последнюю тарелку на стопку остальных.
– Мертва? – прошептал я.
– Мертва!
Дядя повторил это слово своим замогильным голосом так резко, что оно заполнило всю кухню, тяжело заметалось по ней, словно ворон, слепо натыкаясь на мебель, отражаясь от стен, ударяясь в потолок, и наконец вылетело в окно, чтобы напугать соседей; его хриплый, гнусавый, пронзительный звук рассыпался во дворе осколками эхо.
А здесь, под качавшейся лампочкой, опять воцарилось молчание.
Мрачное дядино карканье ничуть не взволновало Маму – теперь она сосредоточенно пересчитывала блюдца. Я закусил губу при мысли, что ее обуял очередной приступ этой новой мании – счета: в последнее время, стоило Маме заняться инвентаризацией вещей, она могла это делать часами.
– Мертва, мой мальчик, мертва. Твоя мать уже ни на что не реагирует.
– Но она же двигается!
– Тебя сбивает с толку такой пустяк. Но я-то разбираюсь в покойниках, – сколько уж я их навидался у нас!
– Где это – у нас?
– В деревне.
– Ты хочешь сказать – у тебя дома! А для меня и Мамы «у нас» значит «здесь»!
– В этом вашем Дурвиле?
– В нашем Бельвиле! Мы с ней живем в Бельвиле![2] – выкрикнул я.
Мне было невыносимо слышать, как дядя хает то, что для меня лично составляло предмет гордости, – Париж, этот спрут, чьим щупальцем я себя чувствовал, Париж, столицу Франции, Париж, с его проспектами и окружным шоссе, с его бензиновой вонью и пробками, с его демонстрациями, полицейскими и забастовками, с его Елисейским дворцом, школами и лицеями, с его автомобилистами, которые вечно лаются друг с другом, и собаками, которые ни с кем уже не лаются, с его коварными велосипедами, шикарными улицами и пепельно-серыми крышами, где ютятся голуби, с его блестящими мостовыми, истоптанным асфальтом, шумными магазинами и круглосуточными бакалеями, с пастями его метро и зловонными водостоками, с его серебристо-ртутной дымкой после дождя, с его сумерками, розоватыми от пыли, и оранжевыми мандаринами фонарей, с его праздными гуляками, обжорами, клошарами и пьянчугами. А уж что касается Эйфелевой башни, нашей безмятежной великанши, нашей стальной покровительницы, то любой, кто отнесся бы к ней без должного пиетета, был достоин в моих глазах вечного презрения. Однако дядя лишь пожал плечами и продолжил:
– Твоя мать родилась не здесь, она появилась на свет в буше. О, как мне нравится это выражение – «появиться на свет»! Оно так подходит для Фату – недаром же она выскользнула из чрева своей матери в одно жаркое воскресное утро. Я хорошо помню, как вспотел тогда – хоть выжимай. Ну а ты – ты в котором часу родился?
– В полпервого ночи.
– Вот видишь, так я и думал: ты появился не на свет, ты увидел тьму.
И он почесал подбородок.
– Где же это произошло?
– В больнице.
– В больнице! О господи, в больнице, – как будто твоя мать была при смерти… Как будто беременность – это болезнь… Медсестры и врачи – вот что ты увидел в первый миг, какая жалость! Бедняжка Феликс, я прямо и не знаю, способен ли ты понять, что творится с твоей матерью.
Как я ни крепился, на глазах у меня закипели слезы и я пришел в ярость. Довольно! Пора покончить с этой недостойной слабостью! Быть двенадцатилетним мальчишкой и без того тяжело, не хватало мне еще разнюниться и тем самым усугубить ситуацию, показав себя плаксивым младенцем… Злость помогла мне сдержать слезы и объявить: