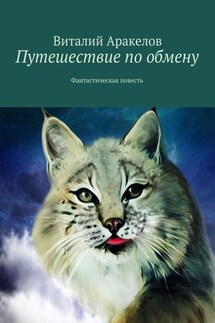Вместо предисловия
чистосердечное признание
В мире есть много прекрасных сюжетов:
и у прозаиков, и у поэтов,
и у народных сказителей… – страсть
как же их хочется взять да украсть!
Если из многого взять понемножку
и не взаправду, а так, понарошку,
строчки смешать, то получится он —
не плагиат, а законный центон.
Или не строчки взять, а персонажей —
не насовсем даже, речь не о краже —
и отпустить их гулять в интертекст.
Сами вернутся, когда надоест.
Авторы и не заметят пропажу,
ну, а читатели весело скажут:
«Это не вор, это постмодернист —
хоть без таланта, но в помыслах чист».
Так, безусловно, не станешь поэтом,
но и никто не осудит за это.
И прозаиком таким способом тоже, само собой разумеется, не станешь.
Кстати, некоторые почему-то думают, что в прозе классический центон – то есть, такой, когда отсебятины не вставлено ни единого словечка, практически невозможен.
Но они заблуждаются. Если бы у нас сейчас была дискуссия, я бы доказал.
Берём, к примеру, один известный роман…
Теперь берём другой, не менее известный…
Вуаля! Лёгким движением курсора и клавиш из двух Степанов у нас получается один, несмотря на утверждение о том, что только все счастливые Степаны похожи друг на друга, а каждый несчастный Степан несчастен по-своему.
«…Всё смешалось в доме Облонских. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Если бы Степе сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» – Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».
Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой.
И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было.
Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал… Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости…».
Ну и, чтобы два раза туда не ходить, сразу – кульминационная сцена с катарсисом и очищающими душу слезами, как положено.
«Утихли истерические женские крики, взволнованные люди пробегали мимо, что-то восклицая. В расстроенный мозг вцепилось одно слово: «Аннушка».
Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать:
– Горе-то, а? Ведь это что ж такое делается? … одно колесо пудов десять весит… А? Верите – раз! Голова – прочь! Правая нога – хрусть, пополам! Левая – хрусть, пополам! – И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, стал содрогаться в рыданиях.
Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери.
– Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз».
Тот, кто, прочитав это, не счел себя оскорбленным в лучших чувствах, не закричал, швыряя эту книжку: «В печку её!», – может без опаски читать её и дальше. Даю честное слово, что там далеко не всё так цинично.
Да и настоящих, по всем правилам, центонов там совсем немного, прямо скажем. Ведь правила гораздо интереснее нарушать, чем соблюдать.