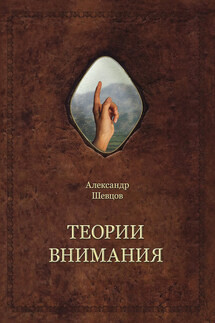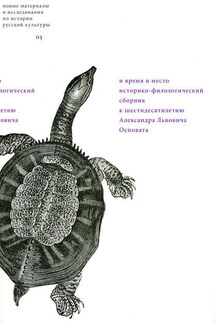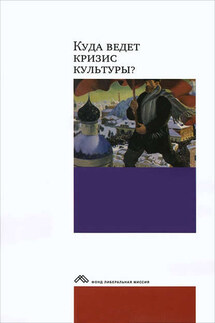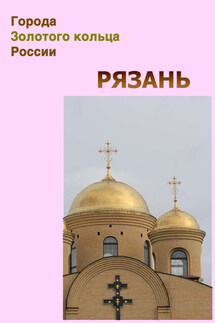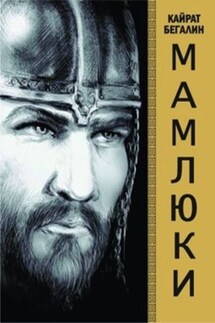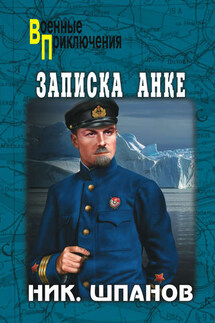Духовное пение старой Руси. Старики[1]
Все время, пока я был у офеней, я все хотел найти то, на что настроился, и в результате просмотрел многое из того, что мне предлагали. Вот так произошло и с их пением. Поют себе старички и поют. А у меня с детства вместо слуха лишь страх петь. А когда эти проблемы снялись, было уже поздно. И вот теперь нам приходится все восстанавливать по крохам. Мы сумели разыскать многие из их песен. Впрочем, в их репертуаре было не так уж много особенных песен. Они пели любые песни, которые пелись. Гораздо специфичнее была их манера исполнения. Онато и есть главная тема этой статьи.
Свое пение мои старички называли Духовным. Я долго не обращал внимания на то, как они пели. Для меня это был своего рода фольклорный довесок к «настоящему». Но однажды летом 1989 года в одной деревушке Ковровского района мне удалось собрать вместе сразу троих, причем, одну бабушку, тетю Шуру, я приволок аж из Савинского района. В какой-то момент они решили спеть на три голоса, «как раньше», но сначала как бы распевались. Благодаря этому я впервые имел возможность не только услышать их «духовное пение», но и увидеть саму систему входа в состояние такого пения. Они запели какую – то народную свадебную песню, которую я пока еще больше нигде не встречал. Я внутренне заскучал и приготовился пережидать время, пока снова не представится возможность задавать вопросы об офенском прошлом. Начало сразу же не заладилось, наверное, потому что они давно не пели вместе.
На мой взгляд, им надо было просто поспеваться, но Поханя, как они звали хозяина, сказал тете Шуре: «Позволение, Егоровна, позволение…» Я ничего не понял, но она кивнула и приступила еще раз. Очевидно, у них опять что-то не задалось, потому что Поханя опять остановился и сказал своей жене: «Ну-ка, Кать, побеседуй с ней. Не в позволеньи идет…» Бабки тут же как-то перестроились, будто вырезали свой собственный мирок, замкнулись друг на друга, и я услышал после нескольких незначительных фраз о самочувствии, как Тетя Шура рассказывает о том, как к ней не так давно приезжали с радио и записывали на магнитофон ее пение. Сумели уговорить, хоть она и отказывалась. А она после них разнервничалась, потому что это, может быть, грех. Я не смог тогда понять, почему она считала то пение грехом, а это нет, но она рассказала, что чуть ли не дала себе слово вообще не петь больше. «Так чуть ли или дала?» – тут же спросила ее тетя Катя. Тетя Шура засмущалась, а потом призналась, что решила больше не петь совсем, как только Поханя с тетей Катей умрут. Все засмеялись. Ей было около 85 лет в это время, и я понял по их смеху, что хозяева старше.
Мы попили чайку, и они потихоньку снова приступили к песне. Но в этот раз не заладилось у тети Кати. С ней, правда, беседовать не пришлось, потому что, как только Поханя взглянул на нее своим суровым взглядом, она тут же махнула рукой и объяснила: «Не помню, двор, что ли, оставила открытым?.. Люське зайти. Поди скоро пригонются. Сижу, саму свербит вместо пенья». Очевидно, скоро должны были пригнать с выпаса деревенское стадо, и тетя Катя, не желая отвлекаться во время пения, открыла ворота двора и дверь хлева, чтобы ее единственная коза Люська могла зайти в стойло, да сама в суете и забыла, сделала ли это. «И чё, так и будешь свербиться?» – только и сказал ей на это дед. «Вот ведь дура какая стала!» – пожаловалась она тете Шуре и убежала проверять свои ворота.
После этого песня пошла лучше, но Поханя все-таки перебил ее еще раз, спросив вдруг старушек с хитрым прищуром: «Чего это вы, девки, важные, молодость, что ли, вспомнили?!» – и подмигнул им в мою сторону. Они засмеялись: «Ну как же! Получше выглядеть надо». «Смотрите у меня», – только и сказал он им и снова запел. К тому времени я уже неплохо был знаком с их системой очищения сознания, которую они называли Крещением, и, с удовольствием наблюдая ее в практике, подумал, что неподготовленный человек, даже профессионал, пожалуй, ничего бы не заметил, настолько это все бытовое, неброское…