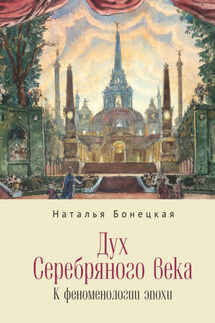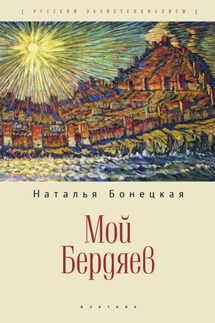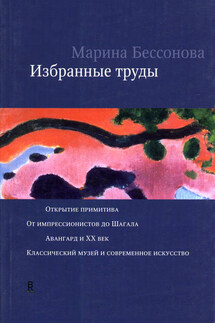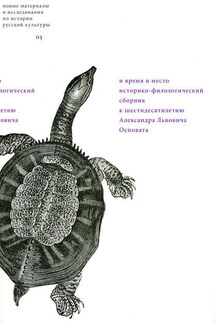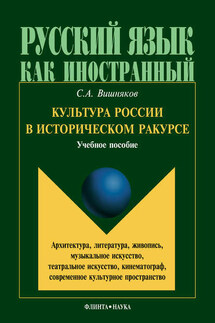Недавно из уст умного и циничного, далекого от религии радиожурналиста мне довелось услышать задевшую меня фразу: дескать, никакого нового образа гуманизма, отличного от того, который создала русская литература XIX в., с тех пор не возникло. Как же так? – сразу же мысленно возразила я. – А «гуманизм» Серебряного века (несмотря ни на что, мысль Шестова и Мережковского, не говоря уж о Бердяеве, тем паче Булгакове, это гуманизм) разве не принципиально иной, чем гуманизм Пушкина и даже Толстого?! С окончанием своего «золотого» века наша высокая словесность утратила прежний этический пафос – неизбежно моралистическую окраску, однако взамен обрела религиозное измерение, ту метафизическую глубину, на которую лишь намекали шедевры классики. На рубеже XIX–XX вв. в мир пришли души более сложные и утонченные, нежели их культурные предшественники, обладающие гармонией и цельностью, быть может, большей творческой силой, но как бы отстраняющие от себя «последние» вопросы бытия. Серебряный век и отразил – осознал и вербализировал новый опыт новой души. Новизна эта – не новизна органических метаморфоз, но обновление, сопряженное с катастрофой. 1917 году предшествовала революция в умах и сердцах – идейная революция, революция религиозно-философская (если иметь в виду мой конкретный предмет). Эпоха Серебряного века в русской культуре так же самобытна и исторически обособлена, как эпоха Возрождения или Реформации в культуре европейской. И уж если говорить о гуманизме современном или гуманизме советских десятилетий (вернусь еще раз к радиовысказыванию), то они-то как раз пронизаны насквозь токами века Серебряного…
Но как же подступиться к специфике этой интересующей меня эпохи? какие избрать категории для характеристики созданной ею новой картины бытия, нового мировосприятия, что нечто большее, чем новая версия гуманизма или христианства? как описать, действительно, «дух Серебряного века», реально ощущаемый нами, но ускользающий от оков словесных дефиниций? Поначалу исследователь бывает подавлен богатством и пестротой материала – множеством имен, словесных жанров, тем. По мере приобщения к эпохе эта пестрота преодолевается видением сонма живых лиц, и в принципе дух Серебряного века можно познавать в его многоипостасности, представляя эпоху как галерею портретов. – Однако дальнейшее углубление в мир Серебряного века убеждает исследователя в единстве тогдашней ментальности: он видит, что все религиозные философы говорят об одном, пускай каждый и на свой лад. Это одно опять-таки манифестирует себя как множество, – но здесь уже не первоначальный хаос, а такая совокупность тенденций и идей, которая, в пределе, может сложиться в лик. Он – не что иное, как лик неуловимого эпохального духа.
Разумеется, я не претендую на подобный синтез, доступный, быть может, духовидцу, но не историку философии. «Феноменология эпохи» – таков подзаголовок моей книги, посвященной описанию ряда конкретных феноменов, симптомов, символов нового мировоззрения. Это философские проблемы – но также и духовные портреты; рассказ об элитных религиозных сектах и движениях в Церкви – вместе и анализ идейных влияний, попытки вскрыть истоки той духовной революции, какой выступил Серебряный век. На протяжении десятилетий (начиная с 1970-х годов – времени моего студенчества) погружаясь в философскую фактичность эпохи, я постепенно стала распознавать в ней некие общие смысловые линии, как говорили тогда – «водоразделы», которые суть черты искомого лика. Некоторые из них ныне сделались заголовками разделов и глав моей книги. Так, для меня несомненно то, что духовная специфика культуры Серебряного века обусловлена воздействием не только идей, но и личности Ф. Ницше. Да, второй «отец» эпохи – В. Соловьёв, но в моих глазах пафос позднего в особенности Соловьёва странным образом сближается с ницшеанским… Я убеждена в правомерности не только такой категории, как постницшевское христианство, но и более широкого понятия религии Серебряного века, охватывающего и языческие тренды, – такие, скажем, как дионисийство Вяч. Иванова. Вообще можно было бы для манифестации духа Серебряного века составить набор ключевых слов-ярлыков: такими мне видятся неоязычество, софиология, имяславие, антропософия… Все эти понятия так или иначе проработаны в книге. Быть может, основоположный для эпохи визионерский опыт Софии Соловьёва и порожденная этим опытом многоликая софиология нуждались бы здесь в особом внимании, – но, как говорится, нельзя объять необъятное…[1] Мне при всем этом не хотелось бы, чтобы в феноменологии Серебряного века усмотрели намеки на эклектичность эпохи. Я понимаю и ценю Серебряный век как удавшийся, формально успешный синтез вещей вроде бы несоединимых: Ницше и Библии (у Шестова), Ницше и Соловьёва (в новом религиозном сознании