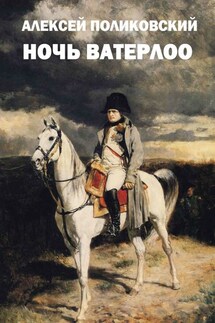Александру Шереметьеву
Той осенью много было тепла в груди. То ли от коньяка, который пили мы в тупике. То ли оттого, что проносились мимо этого тупика поезда, а в них – люди. И так хотелось любить их, думать обо всех нежно. Потому что вот осень такая нарядная, поют в рябинах дрозды, и потому что все мы когда-нибудь умрем.
Той осенью я дурачился. Брал с собою утром будильник, заводил его минут на пятнадцать вперед. Затем входил в трамвай, и присаживался рядом с какой-нибудь девушкой.
Будильник мой был массивный, ещё тот, советский, с колокольчиком наверху. И звонил он – мёртвого можно было поднять. Я вытаскивал его из кармана, хмыкал и спрашивал у девушки:
– Чёрт, а сколько на ваших?
Она отвечала. Я подводил стрелки и говорил:
– Ну и как мне теперь жить без вас!?
Когда я сказал это тебе, ты пожала плечами и ответила:
– Мы можем никогда не расставаться.
Луч солнца, разведённый красками осенней листвы, золотил две озорные твои косы.
И что это был за день! Какое сумасшедше-синее небо висело над городом, и как на фоне этого неба били по глазам костры кленов!
Мы сидели в кафе на набережной, и я все время выспрашивал у тебя что-то. А ты, глядя на Волгу и подставляя лицо ветру, не интересовалась у меня ничем. Казалось, разговор со мной вовсе был не нужен тебе. Но отчего тогда не уходила ты, сославшись на какие-нибудь дела? Отчего беспрерывно пила кофе и, будто на дежурном интервью, отвечала на мои вопросы? Я знал, что у такой, как ты, должно быть много воздыхателей. Денежных, справных, как породистые жеребцы. Этаких хозяев жизни. Но зачем целый день сидела ты со мной? Может, убивала какую-то обиду?
В огромное красное солнце летела чайка. Я думал, что вот вечер, сейчас ты встанешь, скажешь чего-нибудь и уйдешь. Но так хотелось удержать тебя. Какой-нибудь нелепостью, глупостью. И уже злясь, что ничего из этого не выйдет, сказал:
– А поехали в одну деревню. Там есть дом с печкой, а из окна видно, как солнце заходит в поля.
Я знал наверняка, что ты откажешься. Но ты как будто играла в неведомую мне игру и грустно улыбнулась:
– О кей.
Мы заехали ко мне, захватили рюкзак, позакрывали форточки. А потом, купив еды, отправились на вокзал.
Фонари были как будто в дыму. Запах листьев и вокзальных пирожков витал всюду. Мы глядели на уходившие поезда с моста и курили.
– Когда-то я думала, что у каждого человека на этой земле есть его собственная любовь. Которая ищет его с рождения, – сказала ты, разглядывая в полутьме свои красивые ногти. – Но мир все-таки страшно велик, и искать друг друга эти сердца могут всю жизнь. Очень похожа на это и какая-то своя, никому не понятная жизнь поездов. Они часто ходят навстречу друг другу. И кричат, кричат, как журавли. Но как только встречаются, проносятся мимо – тотчас же понимают – не то, опять не то. И снова идут куда-то, ищут чего-то.
Уже и гасли огни в домах, мимо которых мы ехали, и синим светились окна, где смотрели телевизор. А в поезде пахло уютом и жаром несло от чайника, который возле купе проводниц визжал тоненько, как монашенка.
Я сидел на нижней полке и смотрел на тебя. Ты сняла тёмные очки, щелкнула дужками и протерла, как ребенок, кулачками глаза. И так мне захотелось поцеловать их, сгрести тебя в охапку.
– Давай спать, – сказала ты.
Я допил свой чай. Стал разглядывать гравюру города Смоленска на подстаканнике. Внизу мягко погрохатывали колёса.
– Давай спать, – сказала ты, и сняла через голову свитер.
Я обомлел. Под вязаным белым одеянием у тебя ничего не было. И поэтому колыхнулись наполненные, готовые вот-вот расплескаться, груди. Затем ты освободила ноги от джинсов и залезла под одеяло.
Я бродил всю ночь. Выходил за чаем, а потом сидел и смотрел на проносившиеся фонарями и одиноко горевшими окошками деревни. И так хотелось запомнить все это, куда-то записать. И было страшно от мысли, что можешь заснуть, а утром встанешь – и не будет уже тех ощущений, тех нот в груди. Никогда. Не о таком ли состоянии сказал когда-то Пушкин: «Вся жизнь – одна ли, две ли ночи?»
Утром (было ещё запотевшим окно) я тихо разбудил тебя. Ты что-то спросила ленивым, ещё не набравшим холодной отстраненности, голосом. Быстро, как солдат, надела свитер, и пошла умываться.
Затем была станция. Наш поезд толкнулся и застыл у бабулек с яблоками. Мы миновали длинные, точно склады, деревянные ангары, прошли висячим мостом через речку и вышли к осеннему пустому полю. Было ещё темно и гулко. Со станции долго доносился до нас голос женщины, объявляющей поезда.
Ты куталась в воротник своей розовой куртки и прятала руки в рукава. У высветленного стынью горизонта игрались-миловались черные вОроны.
А потом мы порвали в углах паутину, затопили печь, и я принес из колодца воды.
Сколько было счастья в тот день! Шипели дрова в печке, постепенно теплом наполнялась изба и кипела, бурлила за шестком, варившаяся шурпа.
Мы пили чай в облетевшем саду. И казалось: я чувствую, как крутится, летит куда-то Земля. С этой осенью, безлюдной этой деревней и нами, прихлёбывающими из блюдцев с твердым, еще оставшимся от бабки сахаром, чай.